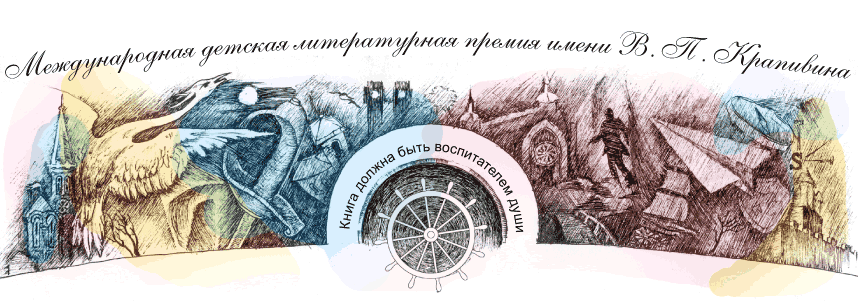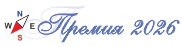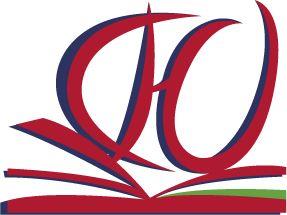Валентина Фролова
Ветры Босфора
(отрывок)
«Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии...»
(Из рукописи XVIII века)
1.УКСУС
— Нет, дядюшка! Нет! Деньги, конечно, способствуют облегчению судьбы. Да ведь ни одной морской баталии за деньги не купишь!
Лейтенант Казарский, уязвленный, ходил по комнате. Квартиру он снимал в доме купца Нефедова — две комнаты на первом этаже. Дядюшка, Мацкевич Алексей Ильич, приехал к племяннику в Севастополь из Николаева. Племянник был командиром корабля, моряком, единственным в семье моряком. Каким кораблем командовал племянник, уточнять не хотелось. Но — командовал. Море любил. Алексей Ильич любил его за его удачливость. Он привез племяннику свое решение: в завещании все свое состояние, 70 000 золотых рублей, отпишет (после смерти, конечно!!!) одному ему, Александру. Имей лейтенант эти деньги сейчас, решил бы многие свои жизненные затруднения. Но он их не имел. Дядя предлагал выход надежный. Истлевшие глазки дядюшки смотрели умно и памятливо. Густая седая бровь над левым глазом вздернулась. В молодые годы дядюшка знавал главного шкипера севастопольского адмиралтейства капитана II ранга Артамонова. У Артамонова есть дочь. Дядюшка готов шкиперу напомнить о старине, поехать к нему, посвататься.
Имя шкипера Артамонова, вора и почетного члена адмиралтейства, уязвило племянника. Известно, воровство и почет в нашем мире рука об руку ходят. Пылкие слова лейтенанта были для Алексея Ильича — пыль. Лейтенанты всегда говорят так. А как взойдет человек к третьему, а еще лучше ко второму классу по «Табели о рангах»[1] — так и слова другие. Сам дядюшка, давно отставленный от дел и обветшавший чиновник, сколько ни корпел в канцелярии, выше девятого класса не поднялся. Золотые рубли свои от отчима унаследовал. И, Бог сподобил, не растратил!
Молодое лицо племянника, почерневшее от солнца и морских ветров, легко воспламенялось. А при имени шкипера — пятна пробили загар. За ласковость и любовь, дядюшка, спасибо. А вот от родства со шкипером — увольте!
— Живите, дядюшка, долго! Наследством родовым я уже жалован. За него благодарю Бога. И другого от Господа не прошу.
Крепко!
И для молодых лет — крепко.
Дядюшка с осуждением полез в карман за тавлинкой[2]. Вынул тремя пальцами понюх желтоватого табаку и неряшливо, по-старчески, затолкал в обе ноздри. Табак просыпался на истертый, выношенный черный жилет, на стол. Свою жизнь он жизнью не считал; не жил, смотрел, как другие живут. Племяннику такой жизни не желал. Всю жизнь для того и скаредничал, чтоб деньги (когда придет срок) подперли племянника, дали свободу движений, твердую поступь по жизни.
Они, дядя и племянник, были одной крови. Дядя родился Казарским, не Мацкевичем. Оба знали о том «наследстве родовом», которым был уже «жалован» лейтенант.
.... Лицом, ростом, статурой[3] Александр в деда, в Кузьму Ивановича Казарского. Побереги Бог, чтобы и судьбой в деда-моряка не угодил. Подростком дед сбежал к морю, определился в волонтеры. Говорят, слава смелых любит.
Врут!
Вот что произошло в одна тысяча семьсот семьдесят третьем году. Царствовала тогда Екатерина Великая.
Черноморского флота не было. Была флотилия, — Азовская (Донская). Но в Крыму уже тогда стояли русские отряды.
Османы норовили выбросить их за перешеек.
Русские норовили сталкивать в море турецкие десанты. Спор шел не на жизнь — на смерть. Отряд кораблей Донской флотилии под командованием капитана II ранга Кинсбергена стоял в дозоре вблизи Суджук-Кале[4], тогда укрепленной турецкой крепости. Ждали, не появятся ли турецкие десантные корабли. И дождались...
Однажды марсовый прокричал:
— Вижу корабли. Справа 90. Дистанция 50 кабельтов. Кинсберген поднял к глазам зрительную трубу. В окуляре появились зыбкие верхушки мачт. Кинсберген силился сосчитать их, но сбивался; их становилось все больше и больше.
— Восемнадцать вымпелов! Три линейных «султана», четыре фрегата, три шебеке. Остальные десанты, — доложил марсовый.
Это был тот самый десант, о котором Кинсберген уже получил донесение личного адъютанта адмирала Сенявина: идет эскадра. На борту — крупные силы турок. Шесть тысяч солдат. Кинсбергену было приказано в случае обнаружения эскадры срочно отходить на Керчь. Там стоял адмирал.
Вокруг Кинсбергена все офицеры его корабля «Таганрога». И среди них двадцатишестилетний лейтенант Кузьма, сын Ивана, Казарский. Он тоже держал трубу у глаз, тоже считал и пересчитывал вымпела неприятеля. Сказал капитану[5]:
— Жадный «султан». Дурной!
— Почему — “дурной”? — переспросил Кинберген.
— Как есть — дурак, — загораясь, запламенев лицом, проговорил тот Казарский, времен царицы Екатерины. — Видите, ваше превосходительство, как ползет тяжело? Вместо того, чтобы десант в два рейса переправить, в один решил. Надеется на ласковость Аллаха. Да война не ласковостями живет, а предусмотрительностью.
Кинсберген понял лейтенанта: не надо отходить на Керчь.
Еще неизвестно, куда возьмут турки курс после Суджук-Кале — то ли на Керчь, то ли на Кафу. Высадятся, ударят русскому войску, всего в три тысячи штыков, в тыл и... живи Россия за Перекопом. Лейтенант с пламенеющим лицом сделал рукой несколько молниеобразных зигзагов. И тем окончательно убедил Кинсбергена: не надо ему отходить на Керчь, нападать надо. У Кинсбергена было три 16-пушечных фрегата, бот и брандер. И команда, о которой Кинсберген уже доносил императрице: «С такими молодцами я мог бы выгнать черта из ада!»
И погнал турок. Атаковал головной отряд противника. Верткие фрегаты ворвались внутрь чужого строя. Ловко галсируя, палили картечью в гущу пехоты на палубах. На «султанах» больше суматошились, чем стреляли. Матросам мешали и солдаты, и кони, которые с берущим за душу ржанием рвались с коновязи, бросались в воду, сшибая людей. Корабли турок сначала сбились в бестолковую кучу. Потом развернулись и быстро побежали под защиту Суджук-Кале.
Кинсберген, справедливая душа, себе присвоил ровно столько славы, сколько стоил. С «Рапортом» в Петербург послал лейтенанта Казарского. А там лейтенанта не в Адмиралтейство пригласили, а к самой императрице. Хитрая, императрица любила хитрых. Смелая, любила смелых. Захотела увидеть моряка, которому победой обязана. Да, может, самого его произвести в капитаны?
Адмиралтейские дрожки подвезли лейтенанта из заштатной Донской флотилии, и города-то большого до прибытия в Петербург не видевшего, к роскошному подъезду Зимнего дворца. Рядом — сопровождающий, чин адмиралтейский. Мундир белый. Один хруст от него. Подбородок подперт жестким воротом. Золота на фуражке, на обшлагах — что росписи на дворцовых стенах.
Едва сошли с дрожек — дверь дворцовая, как по Божьему повелению, сама собой распахнулась. Перед моряком предстал Скороход — огромный детина, тоже весь в золоте и лентах. Такое у него звание было — придворный Скороход. Караульные солдаты вытянулись в струнку. Караульный офицер отдал салют. Придворный Скороход поклонился прибывшим, и два диковинных страусовых пера закачались у носа моряка.
А дальше пошло наваждение, пострашнее боя, пушечной пальбы и горящих парусов.
Наверху, на лестничной площадке, опять же сами собой растворились двустворчатые двери. Рядом со Скороходом встал Гоф-Фурьер.
Двери распахивались, помутневшему взору моряка открывалась зала за залой. Упитанные, увешанные лентами люди в париках присоединялись к Скороходу, Гоф-Фурьеру. Какой-то Чиновник Церемониальных Дел. Потом второй Чиновник Церемониальных дел. Потом сам Церемониймейстер, потом Обер-Церемониймейстер. Громовые голоса что-то провозглашали. У растерявшегося моряка грохотало в ушах, как на палубе в шторм. Он ничего толком не видел, ничего толком не слышал. И когда наконец распахнулась последняя дверь Залы Аудиенции, Обер-Церемониймейстер отступил по всем правилам в сторону. Моряка подтолкнули к трону. В глазах его все дрожало, словно пелена подернула их... Он понимал, что видит царицу, ее корону, ее украшения. Ему что-то говорили... Но он сползал на руки адмиралтейского чина...
Кто-то из ревнивого, охочего до наград окружения Екатерины шепнул ей на ухо: «Пьян, ваше величество... Эти моряки... пьют...»
Императрица брезгливо сморщилась. Махнула ручкой... Выволокли лейтенанта Казарского из царских апартаментов, вышвырнули вон из дворцовых палат.
На том карьера моряка Кузьмы Казарского кончилась.
Отставку дед принял там же, в Петербурге.
Запил.
До конца жизни грубиянствовал, никого не чтя. Да поздно... Через двенадцать лет умер. А сын его, после второго бракосочетания вдовы, стал Мацкевичем.
С тех пор прошло пятьдесят лет.
Лейтенант Казарский, моряк совсем другой эпохи, николаевской, в мыслях много раз проходил страшный, гильотинный путь своего предка. Все вызнал: всех этих придворных сановников, — скорохода, гоф-фурьера, церемониймейстера... Обида кривила тонкие губы. Лицо бледнело. Молодой Казарский смелость в баталиях ставил превыше дворцовых ласковостей.
Он положил себе никогда ни у кого этих самых ласковостей не искать. Мужчины-Казарские ничего так не хотели, как еще раз суметь подняться на палубу, еще раз поискать судьбы в море. Александру единственному — после деда — повезло.
Шла очередная русско-турецкая война.
Суджук-Кале, за который сражался дед, уже русская крепость. Под огнем русских батарей последняя крепость на северном берегу Черного моря, Анапа.
Флот воевал храбро.
Флот жил под неусыпным вниманием царя. Каждое утро царь принимал военного министра по делам Адмиралтейства Моллера и выслушивал его. Знал всех командиров всех кораблей. Ни один перевод с Черного моря на Балтику не проходил без его ведома. Ни одного недоросля-волонтера, даже храброго, не определяли в гардемарины без высочайшего соизволения.
После темных столичных событий 14 декабря 1825-го года Николай уповал на дисциплину. Сам работал с 6 утра до полуночи и неусыпно следил, чтобы все всё положенное выполняли.
Флот выполнял.
Казарский, обдумывая злосчастную судьбу деда, говорил себе: границы есть у государства, но есть они и у человека. Каждый человек — сам себе империя. И должно ему оберегать свои человеческие границы так же любовно, как оберегаются государственные. Он не питал никакой личной вражды к туркам, с которыми воевал. Но твердо считал, что северный берег Черного моря не должен быть турецким. Как пришли османы сюда с кровью и огнем в XIV веке — так пусть кровью и огнем будут отсюда вытеснены. Им — южный берег Черного моря, славянам — северный.
Тут отступать нельзя.
А раз дело божеское, святое, то и исполняй свой долг.
Он не хотел, как его дядюшка, тупить всю жизнь перья в канцеляриях. Он не хотел, как отец, вконец обнищавший дворянин, быть управляющим у графа.
Ему повезло.
Он моряк.
Он офицер.
Вот эти границы своей личной «империи» и нужно оберегать.
Пора уходить на корабль.
Казарский поднялся, ласково и жалеючи улыбаясь дяде. Старик истлевал на глазах. Слеп, глох, ветшал. Сюртук, бывший «присутственный» — ветошь. И даже глазки, некогда карие, какие-то ветошные. Спина — скобой. Ноги семенящие.
Недолго, нет, недолго ждать наследства.
— Живите, дядюшка, — сказал искренно, прося. — Я вас живого люблю.
Дядюшка обмяк лицом. Было все же приятно, что со смертью не торопят.
Лейтенант вынул из кармана часы. Подошел к зеркалу на беленой стене. Застегиваясь, взглянул и удивился тому, как похудел и почернел всего за месяц войны. Цыган! Даже волосы на баках кучерявятся. Война — труд тягловый. Не вспыхни война с Турцией, быть бы его транспортному судну «Соперник» списанным на дрова, а самому лейтенанту пришлось бы заполнить вакансию на каком-нибудь корабле, где в командирах капитан-лейтенант или капитан II ранга. Но война прожорлива. Транспорты возросли в цене. На «Соперник» поставили единорог[6]. И даже перевели в класс бомбардирских судов.
Казарский надеялся под Анапой и с одним единорогом на борту быть полезным отечеству. Жалование задерживали. Денег не было. Но весь месяц войны, возбужденный событиями, лейтенант и при безденежьи чувствовал себя неуязвимо богатым. Так был полон честолюбивых и чистых надежд, так был полон доверия к своей судьбе, не такой горемычной, как у деда.
Проводив племянника, Алексей Ильич прошел по квартирешке, оглядывая ее, хотя его уже звали на хозяйские этажи, наверх, чай пить. Квартирка была тесненькая, без претензий на шик. Мебель хозяйская. Это Алексею Ильичу понравилось.
Сначала дом приобрети — потом всю эту нынешнюю чахлую мебель. Все эти глупые трельяжи[7], обвитые плющом, горки[8] фанцузские, карсели[9]. Своими у племянника были книги по морским наукам и военные журналы. Их было много. В платяном шкафу Алексей Ильич увидел на дне чемодан. Человек без затей и предрассудков, открыл его. Там были рубашки голландского полотна, а под ними... целая стопа османских флагов. Алексея Ильича еще раз позвали к хозяевам, а он все разворачивал пробитые пулями чужие знамена. Читал, шевеля губами, чужие слова на них, тоже местами в подпалинах пороха: «Султан — сын Султана — царь царей, могучий государь — тень Аллаха, Кибле-и-алем — сосредоточение вселенной — обещает победу...», «Шестой полк победоносен...», «Аллах даст вам блага, которых вы жаждете, могучую свою защиту и близкую победу. Возвести это правоверным...», «Мы обещали Магомету победу блистательную...», «Во имя Аллаха, милости, сострадания...»
Всю жизнь Алексей Ильич прослужил в морских канцеляриях. Склонный к языкам, у пленных драгоманов (переводчиков) оттоманскому научился.
Этого добра, пробитых знамен, на южных просторах немало. Алексей Ильич видел охотников до них и среди своих, русских, и среди драгоманов. Только драгоманы — охотники до пробитых пулями русских знамен, простреленных хоругвей. У этих собирателей темечко с вмятинкой. Ничейный брильянт на поле боя увидят, перешагнут. А за тряпкой пробитой, за чужим знаменем под пулю полезут. А то ведь, после боев, и деньги из кармана выложит, купит такое знамя.
Собирателей Алексей Ильич решительно не понимал.
Море — не земля. Там такие тряпки, как в чемодане, не подберешь. Значит, куплены...
Совсем-совсем другой моряк пошел ныне на флот. Их боги — математика и ушаковская лихость. Все бы хорошо, пусть их. Но с деньгами-то зачем так?
Алексей Ильич стоял над дырявыми знаменами, как над уже похороненными деньгами своими. Душа его служила тризну по ним. Вот и не мот племянник. А и не отчим, по золотому собиравший домашнюю казну. Не он, Алексей Ильич, чин девятого класса, прокормившийся жалованьем. Трепета перед золотым рублем не находил у племянника Алексей Ильич.
Ветошные глазки старика смотрели зорко; смотрели в будущие годы.
Что-то видели.
«Соперник» готовился к походу на Анапу. Бриг и три катера будут сопровождать караван «купцов» — гражданских судов, зафрахтованных военным ведомством. На «купцах» порох и вооружение.
Бриг деятельно готовился к выходу в район боевых действий. На борту кончали ремонтные работы. Пополнили боезапас. Вели покраску бортов. Сохнуть бортам двое суток. Если покраска будет ныне окончена, как раз к подходу «купцов» — те шли из Одессы — краска возьмется.
Лейтенант, выйдя из дома, положил себе никуда не заходить.
Но вот вышел на главные улицы.
Вечер. Легкий норд-вест. Теплынь. Темнота. Огни. А за рейдом, на горизонте, еще догорают сиреневые сумерки.
Казарский не заметил, как свернул на Малую офицерскую.
Вот стоит у металлической ограды, за которой знакомый дом в два этажа. Знает, времени совсем нет. Вынимает часы, прячет в карман. Опять вынимает. В душе сумятица. Звонить? Или — поздно уже? Заговорился с дядюшкой. Раньше надо было уйти. Ладонь обхватила холодный прут ограды. Глаза заглядывали внутрь небольшого дворика.
В лунном свете мерцают стволы деревьев. Прямой полосой льется дорожка к парадному крыльцу. В комнате с балконом второго этажа зажжены свечи. Дверь приоткрыта в прохладу весны. Дважды на шторы легла женская тень. Сердце Казарского зачастило: может, позвать? Ощутил утрату, когда тень соскользнула со шторы.
Жила в доме прелестнейшая женщина, Татьяна Герасимовна Воздвиженская. Несмотря на молодость, уже который год вдова.
Ей двадцать шесть.
Вышла замуж она очень рано, а овдовела так быстро, что, потрясенная случившимся, свое вдовство восприняла так, как будто ее вдруг толчком разбудили после сна. Ее муж, капитан-лейтенант Воздвиженский, старший офицер фрегата «Евстафий», погиб семь лет назад. Воздвиженская выходила замуж по любви. Темпераментная, полная энергетической внутренней силы, она иначе не могла выйти.
Смерть Воздвиженского — обыкновенная для моряка. Мокрая морская смерть. Но женщины думают иначе. То, что могилы мужа нет ни на кладбище Севастополя, ни на кладбище Николаева, ни на земле Батума, вблизи которой он погиб, Татьяна Герасимовна приняла как знак Бога — уйти в постриг. Отец, главный шкипер николаевской верфи капитан II ранга Лазутин (везет же на знакомство со шкиперами!), отговорить не мог, но сумел добиться согласия, что дочь все сделает по-своему, но спустя два года.
Время притупило боль.
Татьяну Герасимовну никто ни с чем не торопил.
Так прошло два года.
Потом еще два...
Только вот с год она и выезжает, и принимает у себя.
Снизу, с Николаевской батареи[10], доносились звуки полковой музыки. Там, у земляных валов, вытоптана площадка для оркестра. Городской голова выписал из Петербурга новинку, лампионы. С высоты столбов они льют желтоватый свет на площадку, на которой желающие танцуют. Подойдешь, и вро-де ты в городском саду, в Петербурге или в Москве.
Духовая музыка провожала лейтенанта во всю дорогу по подъему на Малую офицерскую. Была она проникновенной. То певуче-томной, то грохотала по-военному печально и торжественно.
Музыка, звезды, праздная публика у батареи, смеющаяся, громко разговаривающая, фланирующая, сбили с толку. Нет, звонить в дом уже никак нельзя. Упустил время. Его не звали, — но его бы приняли. Его не ждали, — но ему бы обрадовались. А теперь вот нельзя. Почти ночь.
Во всех домах по обе стороны улицы зажжены свечи. Окна низко. Видно, люди сидят за чайным столом целыми семьями. Или каждый себе, — что-то делает. За окнами шла чужая, мирная, манящая какой-то несбыточной грёзой жизнь. А Анапа — вся в грохоте пороховых разрывов. Лейтенанту не хотелось, чтобы падение крепости произошло без участия «Соперника». Но вот и жизнь такая, что за окнами, у чайных столиков, манила уже, тревожила душу.
Тридцать один год.
Пора бы жениться.
Но он не свободен. На его жалованьи маменька-вдова, две сестры, младший брат. Входить в дом к жене с состоянием, да не одному, с четырьмя ртами впридачу... Запрет в душе...
Лучше подождать.
Мерещились какие-то неожиданные удачи. Какие-то перемены к лучшему.
Пусть пока все будет, как есть.
Хорошо, что живет в Севастополе милая женщина. Она дарит его своей бесценной дружбой. Жаль, что не его одного. Такой же дружбой, равной и ровной, дарит Татьяна Герасимовна и командира брига «Меркурий» капитан-лейтенанта Стройникова.
Так стоял он у ограды и вдруг почувствовал, что не один на темной улице. Резко повернулся. Две черные фигуры, скрытые тенью дома напротив, наблюдали за ним с недалекого расстояния. Казарский готов был поклясться, что оба наблюдателя ухмылялись. Гуляки-приятели. Возвращаются, поди, с площади у батареи.
— А у вдовы на панталончиках столько кружев, что и на кружевные манжеты господину офицеру хватит! Ха-ха-ха! — В тишине, в весеннем обновлении, голос смрадно-пьяный.
Кровь в голову!
— Негодяй! — вскричал Казарский.
— Ба! Да это Казарский!
(Его узнали).
— Впрямь Казарский! — с заводом, с радостью хохотнул другой. — Слышал, на его дырявую лохань поставили единорог? Один рог есть. Значит, и вполне рогатым будет. Ха-ха-ха-ха!
— Стойте! Негодяи!
Где там!
Казарский едва пересек тротуар, а уже сверху, с голого холма:
— Ха-ха-ха!
— Ха-ха-ха!
Весь Севастополь пока — Корабельная слободка да несколько улиц вблизи Графской пристани. Дома идут неплотной цепочкой вдоль Южной бухты. На холме застроек мало. Теперь темень. Туда и полиция глаз не кажет. Недаром его так и зовут: Холм Беззакония.
Несмотря на поздний час, на причале людно. В полночь уходят в Анапу бриги «Орфей», «Ганнимед», «Меркурий». Основные силы флота под командованием адмирала Грейга уже много дней там. Держат осаду.
На «Сопернике» паруса свернуты. Темнота не помешала молодым глазам Казарского разглядеть свой бриг еще на подходе и удивиться. Оставляя борт на старшего офицера лейтенанта Шиянова, он записал в лагбухе, вахтенном журнале:
«Продолжать отделывать вновь вырубленный такелаж и исправлять на потребное ко началу кампании, а малярам вести работы и при фонарях».
Где фонари?
Где три узкие рабочие беседки, которые свисали с правого борта, когда он уходил? Маляры тогда вели покраску.
Казарский ускорил шаг. Подошел ближе и увидел срамоту недокрашенного борта. Часовые у трапа взяли на караул, но встретили командира приметно настороженным взглядом. И проводили поворотом головы. Шиянов ждал его. Отошли к леерам. С убитым и расстроенным видом лейтенант доложил, что запас краски на корабле кончился, а шкипер Артамонов новой не выдал. Бриг-де старый. Вся краска ушла на «Пармен», «Штандарт», «Евстафий», «Флору», «Поспешный».
— Так нам что же, с одним левым покрашенным бортом выходить? — спросил Казарский вдруг осевшим голосом и сам не веря своим словам.
— Нам не воевать. Оба борта противнику не показывать. А начальство при выходе один левый борт видеть будет.
Шиянов пересказывал слова главного шкипера.
Артамонов был еще на причале. В шкиперской светились окна. Он уедет в поджидающей его карете только после того, как снимутся с якорей «Ганнимед», «Орфей», «Меркурий».
Глаза Казарского забегали. Взглядывали беспомощно. Он вдруг схватил старшего офицера за плечо. Тот сквозь сукно почувствовал клещистую хватку тонких, длинных пальцев лейтенанта. Хватку коваля. Уперся взглядом в лицо офицера. Сказал:
— Шиянов! Идите к шкиперу. Скажите: «Командир учтивейше просит его превосходительство на борт «Соперника» для разговора с глазу на глаз. В шкиперской многолюдно».
Казарский сбежал по трапу в свою каюту, в корме.
За что такие издевки? «Соперник» плохо несет транспортную службу?
«Соперник» ветх? Старость — еще не позор. Вот корабль, вступающий в кампанию с одним покрашенным бортом, опозоренный корабль!
Он — что оскопленный евнух.
Все у евнуха есть. Малости не хватает. И нет в мире существа, опозоренного больше, чем он.
Казарский метался по каюте, меряя малое пространство меж иллюминаторами и дверью. Что за судьба у Казарских? Рок, что ли, злой над ними? Деда Кузьму Ивановича, храбреца, достойного моряка, осмеяла царская свита, вышвырнула в придворцовую лужу. Теперь кому быть в луже? Ему? Но за что? За какое отступление от службы?
Шкипер не ведает, что творит?
Командир брига с одним выкрашенным бортом станет посмешищем всех кают-компаний. И что тогда делать? Сносить позор? Подавать рапорт и проситься на другое море? Или совсем уходить в кабаки и, как дед, Кузьма Иванович, задираться там по пьяному делу с каждым встречным?
Нет, такое не прощают.
Но что делать-то?
Слухи о петербургских дуэлях постоянно доходили до заштатного Севастополя. Поэт Пушкин уже раз десять стрелялся со своими противниками. Поэт Грибоедов, посланник царя в Персии, был вызван на дуэль офицером Якубовичем в Петербурге, а сошлись друг с другом под дулами пистолетов уже на Кавказе. Грибоедов ранен в руку... Да хоть в голову! Лучше пробитая пулей голова, чем опозоренная.
Будь бы Казарский в равном звании со шкипером, он бы метнул тому в лицо перчатку... Хотя, в общем, Казарский против всех этих лейб-гвардейских глупостей. Но кто позволит лейтенанту вызвать главного шкипера адмиралтейства, капитана II ранга? И гадать не надо, чем все кончится. Кандалами. Сибирью.
Опыт по части кандалов у шкипера есть.
Флот мало причастен к событиям 14 декабря 1825 года. Флот воюет. Флот предан царю и отчеству. Но в какой-то мере и флот причастен к тем событиям. Как и в армии, на флоте вдруг, в одночасье, сменилось командование. Ушли из армии генералы двенадцатого года, ушли из флота адмиралы, ровесники тех генералов.
Пришли новые хозяева жизни.
Сменились адмиралы — сменились и хозяева помельче.
Вспух, вырос, шагнул на главную шкиперскую должность Артамонов. Весь Севастополь знал — как шагнул. Запутал в дело о бунте в столице своего двоюродного брата, моряка Балтийского флота. Тот был замешан больше на словах, чем в действиях. Шкипер поехал в Петербург, сам явился в здание Главного Штаба с показаниями. Упек кузена на каторгу. Завладел большим родовым имением под Орлом. Но имение оказалось наполовину заложенным. Старший шкипер ничем не брезгует, отламывая, оттягивая от флота все, что удается. По бумагам получится, что «Соперник» получил краску сполна. То, что недодано, пойдет вместе с другим флотским добром перекупщикам.
Но что делать-то?
Сказать Артамонову в лицо, что он его судьбой, Казарского, залатывает дыры в своем имении? Заплаты-то кровавые. Не боитесь, ваше превосходительство, укоров совести?
Решение наконец пришло.
Нет, ваше превосходительство, может, вы меня и швырнете в придворцовую лужу мордой в грязь, но если и расквашу нос, то упаду не мешком безвольным. Упаду — так и вас утяну в придворцовую лужу. И у вас, ваше превосходительство, нос будет расквашен. Что, кровь в рот попала? Солоновата кровавая юшка?
Послышались шаги на трапе. Первым показался лейтенант Шиянов. Неуклюже от волнения козырнул и исчез. Старший шкипер вошел. Был он человеком простого и крепкого сложения. Лицо красное, баки густые. Как шерсть у бобра. Треуголка. Форменный сюртук. Белая рубашка, жесткий воротник под тяжелой челюстью. Вошел деловой человек, грубый и прямой, ни при каких обстоятельствах не теряющийся, и прямо взглянул в глаза лейтенанту: «Будет высказано недовольство?.. «Соперник» не стоит той краски, которую требуют два его борта».
Лейтенант — бледный — поневоле горько усмехнулся. Видел, шкипер и не собирался чинить ему зла. До последней минуты, до этого нахального приглашения старшего к младшему, он и не очень-то помнил Казарского. Кто он, командир дряхлой лохани? Командир «Пармена» что ли? Или хотя бы «Штандарта», чтобы его помнить? Что это за дерзость, звать «превосходительство» всего к «благородию»? Да, шкипер не дал краски, хоть и просили. Так по здравому рассуждению, умно сделал. Бриг ветхий. Командирская каюта — один смех. Конура. Зачем добро переводить, когда можно не переводить?
Горькая усмешка на лице Казарского погасла. Сменилась бегучей улыбкой. Сколько в мире зла делается без всякого злого умысла! Сколько судеб калечится, — так, походя, за какую-то малость в выигрыше...
Этот человек в каюте, шкипер, — его Судьба.
Иногда можно разглядеть лицо Судьбы.
Если ты еще молод, то имено в такую минуту покидает тебя твое легкое и веселое детское сердце, полное прекрасного беспокойства, торопившее тебя к твоей славе и высокому служению. В следующую минуту в груди твоей будет биться уже совсем другое сердце, взрослое. Постаревшее, оно распрощается с мечтами и будет вместе со своим хозяином тянуть тягло флотской жизни. Мир погаснет. Будни станут серыми. Судьба взирала на Казарского. У нее было крутоскулое, красное, как обваренное, лицо. И бакенбарды гладкие, как из меха. Шкипер — не злой и не добрый. Он даже по простоте своей не надменный. Он ждет объяснений.
Казарский, в полном параде, застегнутый на все пуговицы, с подбородком, подпираемым высоким воротом, со всей учтивостью подчиненного мотнул головой сверху вниз, показал на кресло.
— Не соблаговолите ли, ваше превосходительство?
Артамонов усмехнулся. Прошел к креслу со всею свободою высокого чина. Шкипер умел устанавливать дистанцию между собой и флотской мелкотой. Чего от него хотят? Разжалобить просьбой? Ублажить подарком?
— Имейте в виду, лейтенант, я служу царю и отечеству. Мне по службе положено сберегать имущество фло...
Шкипер не договорил.
Под рукой Казарского в двери каюты дважды повернулся ключ.
Провисла пауза.
Но не долгая.
Артамонов был человек тертый, к обстоятельствам, заворачивающимся в штопор, привыкший. Он даже не поднялся, продолжал сидеть. Смотрел снизу на лейтенанта у двери. Выжидающе. Снисходительно. Голова осела в плечи, грудь подалась вперед. Квадратность и медвежеватость резче обозначились. В лесах, в имении под Орлом, шкипер, верно, и на медведя ходил.
А лейтенант вдруг занервничал. Был он хоть и высок ростом, но по-молодому узок. По возрасту давно пора войти в полную мужскую силу. Но есть такая порода людей, которые фигурой и статурой до конца жизни юнцы.
— Вы, конечно, знаете, ваше превосходительство, — проговорил лейтенант, подойдя к столу, — никакого вреда учинить я вам не могу. Жалоба по командованию ничего не даст.
Шкипер это знал.
— У вас власть надо мной есть, у меня над вами нет.
Шкипер и это знал.
Движением узкой руки лейтенант отшвырнул газету «Северную пчелу». Под газетой лежали два пистолета. Лейтенант взял один и навел на главного шкипера. Было видно, стрелок он отменный. Да и мудрено промахнуться с двух шагов.
Глаза у шкипера прыгнули под надбровья. Как у хмельного, которого ушат воды заставил протрезветь. Артамонов задвигался в кресле. Хотел подняться. Но остался сидеть. Только теперь в позе не было свободы. Какая свобода под наведенным дулом?
— У вас руки дрожат, Казарский! — проговорил наконец. — Опустите пистолет!
Зубы у лейтенанта, в самом деле, были стиснуты. Скулы обозначились плитами. А руки дрожали.
— Ваше превосходительство! Вы не позволите флоту смеяться над собой. Я не позволю над собой. Оба пистолета заряжены. Или пишите распоряжение под мою диктовку, или я буду стрелять. Одним выстрелом уложу вас. Другим себя.
Бледность проступила и в лице шкипера. Рука сумасшедшего лейтенанта дрожала мелко, но приметно. Палец сведен напряжением. Этот палец может нажать на курок и непроизвольно.
Шкипер не любил игр в пятнашки со случаем. На столе, с его края, лежала бумага, гусиное перо, чернила. Под диктовку он написал распоряжение: выдать командиру «Соперника» краски по требованию; брандкугелей по требованию; ядер по требованию. Уксуса по требованию.
Только когда услышал про уксус, поднял глаза.
— Уксуса-а?..
Уксус требовался только кораблям, собиравшимся вступать в бой с неприятелем. А уксус в больших количествах тем, кто настраивался на бой жаркий.
— Уксуса, — подтвердил лейтенант.
— По требованию? — съязвил шкипер.
— По требованию, — подтвердил лейтенант.
— А если требование будет, как на «Пармен»?
— По требованию!
— На «Пармене» сорок четыре ствола, на «Сопернике» один ствол.
— Уксуса — по требованию!
Артамонов презрительно пожал плечами. Написал: «По требованию».
Скрепя сердце, под диктовку, шкипер заполнил и второй лист:
«Приношу извинение господину Казарскому за гнусное отношение к команде брига «Соперник».
Все еще с пистолетом в руке лейтенант открыл дверь. На пороге хмурый Артамонов оглянулся. В руке лейтенанта дрожи не было. Рука спокойно лежала на позорных листах. И было понятно, что молодые нервы Казарского крепче нервов матерого, но уже перевалившего за пик жизни Артамонова. Наглец? Актер? Скоморох? Глаза командира лохани смеялись. Это было обидно и недопустимо. Обида застряла комом в горле. С легкой прогибостью Артамонов упал на стол, тянясь к позорным листам.
— Руки прочь, — отрезвил его хозяин ветхого брига, вскинув пистолет. Сказал сквозь зубы. С тем особенным спокойствием, которое приходило к нему всегда, когда вся жизнь на кону, или пан, или пропал, терять нечего. Это спокойствие на матросов действовало безотказно, заставляя подчиняться. Подействовало и на шкипера.
Шкипер выпрямился. Взглянул на него искоса. Сгреб в кулак упавшую на стол сановную треуголку. Пообещал:
— Сгною! Мелкота! Гнусь!
Развернулся спиной. Нахлобучил треуголку. Под ней толстый, как бревно, багровый от полнокровья затылок.
По трапу забацали его сапоги.
И только тогда, когда шаги шкипера слились с шумами на палубе, Казарский позволил себе расслабиться. Сердце бешено забилось, заскакало в его груди. Но голова оставалась холодной и трезвой. «Гнусь»? Пусть гнусь. Ласковостей от его превосходительства Казарский не домогался и домогаться не будет. А предусмотрительностями его Бог не обошел. Пусть главный шкипер попробует вредить, листок можно и по кают-компаниям пустить.
«Соперник» успел подойти к Анапе тогда, когда она еще была вся в пороховом дыму. Уксус стал самой Судьбой. Комендоры палили из единорога картечью и ядрами со всею возможной быстротой. Имей «Соперник» на борту уксуса всего по норме, а не по требованию командира, такой пальбы не учинить бы. Ствол единорога раскалился. Его ополаскивали уксусом из ведра. Вонища стояла страшная. Но осиянный залпами корабль, пристрелявшись, рушил каменную стену Анапы. Пробил брешь. Такие же бреши были пробиты и ядрами других кораблей. В них устремилась пехота.
Последняя турецкая крепость на северном берегу Черного моря, Анапа, пала.
2. МОНАРХ
Николай I, как никто другой, понимал значение происшедшего: любая победа — это не конец, а всего лишь начало нового противостояния. Ослабевший султан Махмуд, пожалуй, смирился бы с потерей Анапы. Да Англии, Франции зачем нужна Россия, вышедшая к морю? Англии мало Вест-Индии и Персии. Франции мало Африки и островов Океании. Подавай
Черное море. Будут союзнички занозить сердце султану. Будут совать оружие. Будут в спину толкать: воюй.
С Анапой у них не пройдет.
Двухвековой спор за север Черного моря кончен. Давний узел разрублен. В Анапе его больше никому не завязать.
Как всегда, рабочий день царь начал рано. Прием вел в своем кабинете в Зимнем дворце на первом этаже со Столыпинского подъезда.
В кабинете — рабочая простота. Ничего отвлекающего. Разве что кровать в дальнем углу. Походная. Жесткая. С тонким тюфяком, в котором проредь сена. Да шинель поверху. Россия начинает войны и кончает их — а у государя жизнь всегда, как на привале.
Время шло к обеду, главная же приятность дня впереди: вызванный с театра действий в приемной ждал аудиенции Главный командир Черного моря и портов вице-адмирал Грейг. По случаю победы Николай был в мундире кавалергарда, — в самом любимом из всех своих военных костюмов.
Он уже выслушал Моллера, морского министра. Вице-адмирал порадовал рассказами.
Корабли под командованием Грейга подошли к Анапе 27 апреля в 2 часа пополудни. Грейг послал в крепость трех парламентеров, требовал сдачи без кровопролития. Через полтора часа посланные возвратились со словесным ответом коменданта двухбунчужного паши Шатыра Осман-оглы, что-де «крепость, ему вверенную, он будет защищать до последней капли крови». Дозащищался! Капитан-лейтенант Стройников, командир брига «Меркурий», уже доставил двухбунчужного и других пленных в Керчь. Стройников — молодец! Стройникова — к Анне второй степени!
Награждать Николай любил. Светлел лицом, когда награждал.
Нечего и говорить, войну начали славно.
Едва султан двинул войска на расправу с восставшими греками и те запросили помощь, Николай отдал приказ князю Меншикову о поддержке флотом армии Дибича. Меншиков доложил: Черноморский флот может перевезти на берега Босфора две дивизии в два рейса без лошадей и обоза; необходимо немедля ассигновать черноморскому ведомству до полутора миллионов рублей для обеспечения провизии.
«Все очень хорошо, — написал тогда на докладе князя Николай. — Провизию вели готовить. Об деньгах я уже приказал, и ты можешь сейчас их требовать. Действия наши должны быть скоры и решительны. Разумеется, с флотом дома сидеть не будем, и ежели вдруг неприятель сам к нам пожалует, то при равных силах будем мериться; при превосходных — сидеть у моря и ждать погоды. Погода же будет та, что я направлю сухопутные силы прямо на Царьград. Отобьем у Махмуда II охоту задевать христиан не только в Греции, а и в Сербии, а и в Болгарии, а и в Валахии».
Вот погода и выдалась, Анапу взяли!
Вечерами, после трудов и забот, Николай, случалось, засиживался над архивами своей бабки, Екатерины Великой. Тридцать два года назад бабка, покровительствовавшая искусствам, отписала одному из тьмы-тьмущей своих корреспондентов-литераторов Фридриху Гримму: «Сегодня мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он аршин без двух вершков, а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья его окажутся карликами перед этим колоссом!»
И, наверно, подумала: «Вот в ком кровь Петра I. Вот кто рост да стать пращура унаследовал!»
И, наверное, пожалела: «Не быть рыцарю на престоле...»
Оказалось — быть.
Затейница история! Дала младенцу пращуров рост, пращурову стать, и когда тот вымахал в двухметрового великана, толкнула на трон, от которого в ужасе отшатнулась вся родня.
А Николай не отшатнулся — не тот характер.
Переступил через 14 декабря, как через черный день династии, и теперь ведет дело, начатое пращуром, войну с ненавистной Турцией. Если флот побеждает, то потому побеждает, что он, государь, неустанен. На ногах с зари до зари.
Победы флота и армии нужны не одной России, юг которой только-только сбрасывает иго янычар. На Балканах поддержка — полная. В обществе — полная. Греки сражаются, как герои Эллады. Приближающиеся русские корабли встречают трехцветными флагами: «Да здравствует Россия!» Горами пробираются навстречу Дибичу, волонтерами вливаются в русскую армию. И Дибич шлет депешу за депешей, отмечая их пылкую храбрость, стойкую преданность.
В сочувствии единоверным грекам все едины — и генерал, и мещанин. Вон даже Пушкин, поэт, по которому «во глубине сибирских руд» кандалы плачут, здесь с царем заодно: «Нет дела более святого, чем свобода греков!»
Проводив взглядом Моллера, Николай задумался.
Мир — кисель. Сколько веков разные люди пытаются из него слепить что-то прочное. Ан, нет! Течет меж пальцев. Глядишь, сегодня он уже не тот, что был вчера. Давно ли Турция устрашала мир? Расползалась по территории, едва не России равной? Греция, Сербия, Болгария, Валахия, Молдавия, Бессарабия — всё владения Блистательной Порты[11]. Грузия, Черкесия, Крым — всё владения Порты. Египет, весь север Африки — всё Порта. И что сегодня? Турция — как тяжело больной человек. Россия, Англия, Франция озабочены наследством. Каждый тянет на себя, что может. Османская империя ужимается до Анатолии, до земли предков.
Неужели с империями всегда так?
Вчера была — сегодня осыпалась.
А вечные империи?
Где они, вечные?..
Нет, не то. Мир не кисель. Мир — грозовая туча. Все внутри нее клубится, движется, перемещается. Меняется. Остановить это движение не дано никому.
Утверждаться в Анапе придется с боями на Кавказе и на Балканах.
Понатешился, понапился султан кровушки христианской.
Пришло молодцу к концу. Греки в крови с головы до пят. Собственной кровью захлебываются. У всех государей помощи просят — не у султана милости. Сочувствуют Греции все — воюет одна Россия.
Отменно воюет.
Николай прислушался к себе: что-то точило душу. В светлый день подписания приказов о награждении героев Анапы смуты не должно быть. А была...
Принять сразу после Моллера Грейга, как намечалось, Николай не смог. Просил срочную аудиенцию министр финансов Канкрин. Настаивал через адъютанта, чтоб, де, быть ему принятым перед Грейгом. Николай не любил, когда ему ломали расписание. Но министр финансов есть министр финансов. Вовремя не сбережешь рубль, и годом потом ущерба казне не возместишь. Николай поднял глаза на адъютанта: приглашай.
— Генерал-адъютант граф Канкрин.
Едва генерал-адъютант переступил черту двери, у Николая свело лицо, как от зубной боли. И министр финансов Канкрин, и министр иностранных дел канцлер Нессельроде достались Николаю в наследство. Если бы брат Александр оставил в наследство еще пару ботфорт, которые так и именовались уже «ботфортами Александровской эпохи», Николай мог бы в правый опустить министра финансов, в левый — министра иностранных дел. И лучше, чтоб ботфорты оказались зимними, на меху. Министры были маленькими, с годами принялись наперегонки расти вниз, мерзли по десять месяцев в году из двенадцати! Канкрин, не смея нарушать жесткого правила быть при дворе в военной форме — соответственно званию и занимаемому посту — предстал перед государем во всем великолепии генеральской амуниции. Однако что за вид был у него! Канкрин разбух от теплых одежек под мундиром. Горло обмотал толстенным шарфом. Ноги отеплил — обувка так-таки была на меху. Усы Канкрина свисали к уголкам бледного рта, как знамена поверженного противника.
Даже усы!..
Усы для Николая — не деталь обличия.
Усы — привилегия единственно военных!
«Рябчикам» — люду штатскому — усов не полагалось. Их забота стыдиться или не стыдиться голого, как пятка, пространства между носом и губами.
В громадной империи не надо было гадать, встретив на улице незнакомого или незнакомую, кто есть кто. Военный — усы. Священнослужитель — борода. Дворянка — шляпа с лентами. А уж если ты купчиха или мещанка — довольствуйся платочком.
В кабинете Николая летом всегда было прохладно, зимой холодно. Печка топила плохо. Печников, золотых дел мастеров своего дела, полон Петербург. Но царь и в лютые зимы не позволял перекладывать печь, сложенную век назад и давно требовавшую ремонта. Он любил ледяной морозный воздух столицы, любил бодрящую температуру тронного зала, любил сон в холоде. От всего этого его лицо только наливалось румянцем цвета каленого кирпича.
Канкрин, помня о зимней стылости царского кабинета, едва войдя, поднял плечи к ушам, съёжился, сберегая тепло под мундиром.
— Егор Францевич! — воскликнул Николай, с укором глядя на генерал-адъютанта. — Такой день! В приемной Грейг. Наградные листы подписывать будем!
Канкрин, немец, преданный России, но так и не научившийся до конца жизни чистому русскому выговору, тронул шарф. Сказал уныло. О горле:
— Вчера болело... — Взмолился, помолчав: — Ваше величество, батушка, разве вам лутше будет, когда софсем слягу и умру? Кто будет тогда держать в порядке русские финансы?
Русского министра финансов Европа знала так же хорошо, как хитрого австрийского канцлера Меттерниха, и не менее изворотливого главу английского кабинета лорда Пальмерстона. Россия вывозила в Европу хлеб. Много хлеба. Рубль шел по курсу выше al pari, — то есть выше означенного на нем номинала. На иностранных биржах за русскую ассигнацию доплачивали изрядный лаж, — опять-таки куш сверх номинала.
Николай посмотрел-посмотрел на генерала и махнул рукой. Показал головой на кресло, — садись, Егор Францевич.
Канкрин сел все с тем же унылым видом. Выложил папки с бумагами. Цифры, цифры, цифры, биржевые сводки. Это ж только в начале войны, батушка, доставка провианта к румелийским и абхазским берегам полтора миллиона стоила! Деньги — вода, открой шлюз — текут. А таких денег не бывает, каких нельзя спустить. Франк толстеет. Фунты тяжелеют. За два последних месяца лаж на русские ассигнации и в Париже, и в Лондоне меньше стал. Думать, батушка, пора, думать!
Николай улыбнулся:
— Стареешь, Егор Францевич. Жадный становишься. Государство богатеет не тем, что не тратит, а тем, что обретает. Погоди, свернем в бараний рог Махмудку, все потраченное возместим.
Канкрин посмотрел на Николая снизу, — сухонькое личико едва не на столешнице. Чем меньше с годами становился Канкрин, тем огромнее водружал себе на нос очки. Глаза теряли зоркость. Болели часто. Николай понял его молчание: а ну как не свернем? Первая разве война с турками?
Нет, война была не первой.
— Свернем! — с настроением уверил Николай Канкрина. — Чего убоимся? Расходов, говоришь? Не убоимся. Вон как хорошо с Анапой получилось! — Осенил себя крестом, поднял глаза к потолку. — Господь наш! Избавитель наш! Да воскреснешь в воинах своих и да расточатся врази твои!
С Анапы больше разбоев и набегов на русские города, на русские села не будет.
Канкрин все смотрел снизу и молчал.
— Да ты с чем пришел, Егор Францевич? — перебил сам себя Николай.
— Новость тебе, батушка, одну принес. Не услышишь вовремя, — Грейгу малую награду дашь. А он большой стóит.
— Н–ну? — забеспокоился Николай.
— Ваше величество, — проговорил Канкрин, — есть сведения, что англичане становятся совсем ненадежными. Готовят фрегат, собираются без всякого спросу зайти в Черное море. Нас спрашивать не хотят, а с Махмудом столковываются.
— Так...
Политические союзы — браки... Те же браки по расчету, что браки между царствующими династиями. Брак России и Англии распадается...
— Лейтенант Слэд, человек лорда Стрэтфорда, в Стамбуле. Его видели переодетым. Он брит, как турок. И в феске. Торчит в кофейнях, курит самсунский табак, пьет из пиалы. Столковывается, с кем надо. Говорит: Анапу русские взяли — Анапу оставят. По условиям мирного договора. С России куруров хватит.
Николай побледнел.
Стрэтфорд... Стрэтфорд-Каннинг — двоюродный брат умершего год назад премьера Британии Джоржа Каннинга. Дипломат, со страстью отдающийся шпионажу во имя национальных интересов Англии. И его любимец лейтенант Слэд...
Спасибо, Егор Францевич! Да, это так. Чтобы выиграть морское сражение, надобны видные адмиралы; а для того, чтобы проиграть, достаточно невидимых шпионов.
Николай оставил стол и прошел по кабинету от стены до своей солдатской койки, от койки до стены, — что всегда служило признаком сильного раздражения. Канкрин, не поворачивая шеи, водил глазами вслед.
— Вовремя, Егор Францевич! Вовремя... «Куруров хватит...» Они с Россией — как с дурочкой, с собой — как с умниками.
Курур — откуп.
Откупы, дань, брали некогда татары с русских городов.
Шли века. В разных странах дань называлась по-разному. Суть ее не менялась — откуп.
Англия с земель Вест-Индии берет свою дань, «самсари».
(Эта дань и поныне в британской казне, в ее хранилищах. Знаменитые алмазы. Библиотеки. Картины).
Брала «куруры» с побежденных и Россия. С Персии. С Турции. Взяв, выводила войска.
Таковы были нравы.
(Позже все стало проще. Завоеватель грабил завоеванную территорию, увозил, что мог. Так в Великую Отечественную войну исчезла янтарная комната. Затерялись следы многих сокровищ).
Николай проницательнейше взглянул на Канкрина:
— Ты, Егор Францевич, вот что. Саму мысль, что куруром за Анапу казну пополнишь, выбрось! — Рассердился. Походил еще. — Вот возьму Царьград. А вместе с ним их помойку, Умрани[12]. Я им их свалку сам швырну в курур... Анапу — нет! Без Анапы спокойной торговли на Черном море не иметь. Покоя нашим городам не будет.
Николай наконец понял причину недовольства, мутившего с утра. Победа над Анапой — это хорошо. Но нужна победа такого грому, чтобы вразумить англичан: Черное море мы делим с турками. Третий — уйди. Третий — лишний.
Нужна победа такого грому, какую учинил Лазарев при Наварине.
Способен ли на такую Грейг?
Подошел к столу. Позвонил. Адъютанту:
— Просить Грейга.
Канкрину:
— Оставайся, Егор Францевич, отобедаешь с нами. Ты мне нужен при разговоре.
Столовая — в соседней зале. Через боковую дверь видно было, челядь накрывала стол. Вносили ведерки со льдом. Из них стволами тяжелых мортир выглядывали горлышки винных бутылок. (Бедный Егор Францевич! Его ангина — особа такого темперамента, что может вспыхнуть от одного взгляда министра на лед!)
Николай пил редко. При гостях. И пищу в будни предпочитал простую, походную: щи, кашу, мясо вареное. Курительных столиков в кабинетах не бывало, — ни для него, ни для гостей. Он не курил и дыма табачного рядом с собой не терпел. Исключений не делалось, какого бы ранга гость ни прибывал в Петербург, из каких бы ни был стран. Николай сделал знак, чтобы дверь закрыли.
Вошел Грейг, — в сияющем белом мундире, моложавый, сильный и самоуверенный. Щелкнул каблуками и остановился в дверях. Николай взглянул на него и понял: Грейг, в отличие от генерала Канкрина, вполне соответствует его представлению, каким должен быть адмирал флота Российского. Сухой и жилистый, выносливый и нетребовательный к комфорту, привыкший к аскетизму морских походов, Грейг и бакенбарды имел именно такие, какие должны быть у адмирала, намеренного побеждать. Морякам не положены усы — морякам положены бакенбарды. И уж, конечно, они у Грейга не обвисают, как паруса, покинутые ветром! По всему было видно, что своего последнего слова вице-адмирал не сказал и своего последнего звания не получил. Николай с улыбкой пошел к нему, обнял, поцеловал, сказал с чувством:
— За все тебе спасибо, Алексей Самуилович.
Взяв за локоть, повел Грейга к столу с военными и топографическими картами.
— Ну, доложи, как брал крепость.
Оба еще не знают, что пройдет немного времени и Главный командир Черного моря и портов в день рождения своего последнего сына обратится к царю «...со всеподданейшей просьбой», которая в делах Канцелярии пройдет под пометкой: «Письмо адмирала Грейга с всеподданейшей просьбой о восприятии от купели новорожденного сына его».
Флот царь любил.
Родства с моряками не чурался.
На письме останется роспись Николая: «Душевно радуюсь, поздравляю и подряжаюсь и впредь всех крестить. Объявить, что всех сыновей жалую в мичманы, о чем уведомить кн. Меншикова».
Но это еще впереди.
А пока Грейг, приглашенный к картам, при всей своей внутренней свободе, с какой смотрел на государя, ощутил мгновенное облегчение. Разговор у карт привычен.
Грейг подробно докладывал о штурме, испытывая удовольствие от того внимания, с каким его слушали. Канкрин молчал. А Николай останавливал вице-адмирала вопросами:
— Командир «Меркурия» капитан-лейтенант Стройников, говоришь? Орел! Анну ему, как просишь. И в капитаны второго ранга[13]. За Анапу — можно!
Грейг поднял голову от карты, взглянул на царя: «Я того же мнения, ваше величество». Вслух сказал:
—Так вот, 5 мая в 10.40 пополудни отправил я бриг «Меркурий», яхту «Утеха» и катер «Сокол» на усиление крейсерства вдоль берегов абхазских… Но Стройников до Кавказа не дошел. Вступил в сражение с отрядом турецких кораблей. Команда «Меркурия» — 110 человек. Стройников одолел в бою отряд и взял в плен транспорт «Босфор», на борту которого только одного пополнения для Анапы было более, чем триста...
— Сколько Стройникову сейчас? — перебил Николай. Подсказать не дал. — Тридцать шесть?.. Он что, в свои тридцать шесть все еще не женат?
— Не женат, ваше величество, — ответил Грейг. И хотя знал о редкостной памяти Николая, запоминавшего на всю жизнь фамилии, имена офицеров, которых ему, без устали скакавшему по просторам России в заботах о проведении смотров войск, представляли, удивился. Государь помнил и то, кто женат, кто не женат. Другое дело он, Грейг. Севастополь жил, как барская вотчина. Отцу-командиру всё докладывали: кто на ком женился, кто собирается жениться и даже кто на кого пока только глаз положил.
— Что ж не женится-то в тридцать шесть? — настаивал на ответе царь. — Много среди морских офицеров засидевшихся. Флоту смена нужна!
Грейг кольнул напоминанием:
— Походов много, ваше величество. Палуба не паркеты бальных зал. Невест в море нет.
— Плохо, что не женится, — повторил царь. — Погибнет орел, роду конец...
Грейгу докладывали, что два командира, — командир «Меркурия» и командир «Соперника», — желанные гости в доме Воздвиженской, у которой собственный дом на Малой офицерской.
Больше Николай Грейга не перебивал. Оба склонились над столом с картами.
А потом, не взглянув на безмолвно сидевшего в кресле Канкрина — сведения были от него — царь, вдруг перестав слушать, повернул лицевой, исписанной стороной один из листов на столе, придвинул его ближе к Грейгу.
— Плохи у нас дела, Алексей Самуилович, с союзниками. Вот погляди, что докладывает лорд Стрэтфорд-Каннинг своему правительству: «Если разразится война с Россией, то с помощью нашего флота мы можем уничтожить ее торговлю на Черном море, опустошить там ее б е р е г а, проникнуть через Днепр к самому Киеву». Слышишь, что у союзников в головах? — Помрачнел. Взглянул в глаза Грейгу тяжелым взглядом серо-свинцовых глаз. Тем пронзительным взглядом, от которого цепенели и впадали в робость видавшие виды адмиралы. Холодно, словно была вина именно Грейга в том, что союзники ненадежны, проговорил:
— Чтоб берега Черного моря опустошены не были, твоя забота, Алексей Самуилович!
Монаршья милость дорога, а истина дороже.
Турецкие кочермы без конца идут на Кавказ. Они полны английского оружия. Да какого! Новейшего. Нарезными ружьями с невиданными прицелами. Кавказ для Англии — стрельбище, где она на русских солдатах опробывает новые ружья. Почему нет таких ружей у русской армии? Наконец, что делают наши дипломаты?
— Кавказ, ваше величество, кишит вражеской... — Под взглядом Николая даже бывалый Грейг сбился... — Кишит дружеской агентурой. Нет никакой возможности ни в Батуме, ни в Поти уберечься от шпионажа и тех критических моментов, которыми умеют так искусно пользоваться англичане.
— Дела-то, батушка, значит хуже, чем я думал! — в горестном прозрении воскликнул в своем углу Канкрин.
Испугался: вон к чему Грейг клонит! Сейчас будет требовать ассигнований на новые ружья. (А то без них не воевали!) Сейчас будет доказывать, что железная дорога нужна. С этой железной дорогой Севастополь подступал к царю, как с ножом к горлу. (А то без нее не жили!). Оставаясь с царем наедине, Канкрин негодовал: «И к чему, батушка, эти рельсы, когда их все равно на полгода занесет снегом? Напрасная трата денег, батушка мой!..»
Николай еще раз прислушался к себе.
Грейг, конечно, молодец!
За Анапу Грейга — в адмиралы.
Но Грейг не Лазарев... Нет, не Лазарев... Лазарев при Наварине не считал, на сколько у него кораблей меньше, чем у противника. Жег, крушил, уничтожал, — потом уже сосчитал, сколько.
Николай перешел ко второму столу. Взглянул в наградной рапорт.
— Этот кто? — спросил, хмурый. Ткнул пальцем в незнакомую фамилию.
Грейг подошел. И опять колкая улыбка сдвинула уголки губ:
— Еще один холостяк тридцати одного года. Лейтенант Казарский, командир брига «Соперник». Очень искусно стрелял по крепостным стенам, ваше величество. Палил в одну точку, пока брешь не пробил в рост солдата.
— «Соперник»?! Так «Соперник» же — ветошь? Помню, подписывал списание. Сами твердили: «Отходил. На дрова одни годен».
— На дрова и годен, — подтвердил Грейг. — Но Казарский пока держит его на плаву. И вот даже воюет.
Канкрин заволновался, заерзал:
— А я что говорю? Я всегда говорю: «Одна глюпая фарса — все эти списания!». Бриг ходит, бриг стреляет, бриг на дрова! Что будет, батушка, когда я умру? Россией печки топить будете! Вся Россия дымом уйдет!
Черт дери, а ведь и Канкрин прав! Не считать деньги никак нельзя! Лицо крохотного генерал-адъютанта пошло пятнами. Он покрутил шеей. Ворот мундира под теплым шарфом жал глотку. Николай и Грейг расхохотались.
— Алексей Самуилович! — горячая страсть желания расплавила свинец в глазах Николая. — Баталия нужна громкая. Подвиг такого грому нужен, чтоб Европа охнула и оглохла. Они с нами — как с дурачками. Уже за Анапу курур подсовывают. Ты помни, Алексей Самуилович, из Анапы не уйду. Ни за какие куруры не уйду. Видал, какие умники?
— Уж так! — мрачно подтвердил и Канкрин. — Кровь льет Россия, бифштексы ест Европа.
— Ваше величество, мы делаем все, чтобы выманить турецкий флот из проливов и сойтись с ним в море.
— Я в свой флот верю, — сказал Николай, — и надеюсь, Алексей Самуилович, что сойдешься ты борт к борту с капудан-пашой. Будут ли рядом союзники, не будут ли, а чтоб поступлено с неприятелем было по-русски!
Грейг стоял, выпрямившись.
— Не закрепимся здесь мы, — Николай ткнул пальцем в Анапу, — закрепятся англичане, спрятавшись за рыхлые спины турок.
И вдруг, опять без старания быть последовательным, наклонился над наградным листом:
— Так как, говоришь, фамилия лейтенанта? Казарский?
— Казарский, ваше величество.
— Сколько, говоришь, лет холостяку?
— Тридцать один год, ваше величество.
— Стоп!.. Казарский... Казарский?..
Грейг знал, невероятная память — предмет гордости Николая. Верно, эта память уравнивала его с величайшими полководцами былых времен. Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех своих солдат, — до 30 тысяч человек. Никто из историков не дал себе труда подсчитать, сколько тысяч подданных помнил Петр I. Но помнил, верно, и поболее 30 тысяч. Помнил военных, помнил подрядчиков, работавших на военных. Хотя бы памятью Николай уж точно был в пращура.
— Казарский... Казарский...
Николай вернулся к первому столу.
— Как же ты говоришь, Алексей Самуилович, что «Соперник» стрелял по крепостным стенам, когда «Соперник» — судно транспортное? — поднял недоуменно бровь.
— Один единорог, ваше величество, поставлен на борт с началом военных действий. А вообще с начала века на борту «Соперника»...
— С начала века? — повысил голос царь.
— С начала века, — упрямо, с внутренним едким сарказмом повторил Грейг, — на борту были только карронады[14]. Казарский их число увеличил.
— И что? Научил этот Казарский своих «амбалов», своих «бурлаков» стрелять?
— С отменной меткостью стреляют транспортники.
Николай открыл папку с докладами Моллера.
Вот оно, письмо главного шкипера Севастополя капитана II ранга Артамонова о необходимости незамедлительности в решении судьбы ветхого брига «Соперник». Если нельзя выполнить высочайшее повеление о немедленном списании брига, то надобно приписать транспорт со всей командой к Дунайской флотилии. Плавание по реке не грозит такими трудностями и непредсказуемостями, как плавание по морю.
Вспомнил!
Купец Камелев под видом корабельного леса доставил тонкомерный лиственный лес. А шкипер Артамонов, вопреки всем правилам, готов был тот лес принять. Командование тогда докладывало, что злого умысла у Артамонова не было. Все шкиперу сошло с рук. Николай перечитал резолюцию: «Шкиперу Артамонову сделать строгий выговор за неисправное исполнение возложенного на него поручения. Велеть ему немедленно самому выехать на место заготовки лесов, и если в будущую операцию не доставит лесов тех размеров, которые надобны, то объявить вперед, что отдан будет под суд».
Шкипер, которому мешает офицер, славно воюющий, подозрителен.
Николай в присутствии Грейга подписал сразу два распоряжения:
— Лейтенанта — в капитан-лейтенанты. И — Владимира второй степени.
И второе. Резолюция Моллеру:
«Письмо шкипера меня не убеждает, ибо всем известно, что раз отданный под суд, может во многих злоупотреблениях замешан быть. Призвать сведущих людей и узнать у них истину».
Грейг был вполне доволен аудиенцией.
Вполне был доволен и граф Канкрин. Не приди он вовремя, эти молодые моты, Главные командиры морей и портов, всенеприменно бы выпросили ассигнования на какие-нибудь нофшества, их глюпым фантазиям конца нет. Умрет граф Канкрин — Россия дымом уйдет. Россией печки топить будут.
Казарский же пока не знал, что его имя было произнесено во время высочайшей аудиенции.
Всех выдающихся русских адмиралов: Лазарева, Нахимова, Истомина, — Николай приметил еще в их лейтенантские годы. И, приметив, не спускал с них глаз.
Лейтенанту же пока было достаточно невзгод, сыпавшихся на него в Севастополе.
Шкипер Артамонов его в упор не видел.
Жаловаться на него было решительно не за что. Но лейтенант угадывал его тяжелую руку, занесенную над ним. Вдруг его призвал к себе командир отряда транспортных кораблей и сказал, что «Соперник» идет в последний поход к Анапе. Потом будет отписан к дунайской флотилии. Лейтенант, если хочет, может подать рапорт на зачисление в команду фрегата «Евстафий». Там есть вакансия.
Казарский десять лет отзвонил в лейтенантах и все под чьим-то началом. «Соперник» — его первый опыт командования кораблем. Если не шкиперу, то кому еще мог помешать «Соперник» в составе Черноморского флота?
Было обидно.
[1] В «Табели о рангах» было 14 классов, 14-ый класс — самый низкий
[2] Тавлинка — плоская дешевая табакерка из бересты.
[3] Статура (устар.) — стать.
[4] Будущий Новороссийск.
[5] В те времена капитанами звали и командиров военных кораблей.
[6] Вид тяжелого орудия.
[7] Трельяж — в ту пору тонкая решетка, увитая растениями.
[8] Горка — этажерка во французском стиле.
[9] Карсели — бронзовые украшения.
[10] На месте Николаевской батареи ныне Приморский бульвар.
[11] «Османская империя», «Блистательная Порта», «Золотая Порта» — названия Турции и завоеванных ею территорий.
[12] Умрани — район гигантской свалки под Стамбулом. Впрочем, Турция конца XX века — не Турция времен Николая. Успехи Турции в экономике впечатляют. И ту знаменитую стамбульскую помойку власти недавно прикрыли, свалку разгребают.
[13] В то время градация званий на флоте была такая: мичман, лейтенант, капитан-лейтенант, капитан второго ранга, капитан первого ранга, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал. Званий «старший лейтенант», «капитан третьего ранга» не было.
[14] Орудие меньшего калибра, чем единрог.